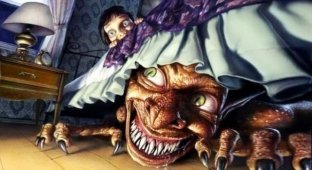Просто история о человеке (22 фото)
Категория: Интересные фоторепортажи
13 января 2022

Бездедовичи в Полоцком районе могли бы стать очередной умирающей деревней, о которой все позабыли, если бы не Олег Рудаков — историк, этнограф и просто большой любитель всего белорусского, который вместе с женой и матерью живет здесь уже год. Он родился и вырос в этом селе, а потом уехал в Сибирь, где «пропал» на 35 лет. За это время Олег успел создать там свою маленькую Беларусь — знакомил местных с нашей культурой, проводил масштабные фестивали и национальные праздники, на которых гуляли сотни и тысячи человек. Но обратно мужчину все равно тянуло. И вот он наконец вернулся.
В арсенале у Олега, кажется, тысячи историй, которые он ловко достает из кармана камуфляжной куртки уже в первые минуты знакомства.
— Как думаете, почему нашу деревню зовут Бездедовичи? — хитро щурится Олег, встречая нас у калитки. — Когда-то этими землями владел род Римских-Корсаковых. По слухам, известный композитор здесь тоже бывал и даже написал несколько своих произведений. Но самим поместьем в начале XX века распоряжался Александр Александрович, некогда ярославский губернатор. Приезжал сюда, чтобы поохотиться. По легенде, он брал к себе на работу только юношей и девушек. Как только они достигали 40 лет, выгонял их прочь. Поэтому считалось, что в нашем поселке живут только молодые люди, а стариков нет. Отсюда и Бездедовичи.


Может, это и придуманные кем-то сказки, но в свое время тут и правда было много народу. Мужчина вспоминает, что в советские годы деревня просто «гудела»: одних только парней и девушек его возраста было 43 человека — Олег когда-то сам всех пересчитал. А коров сколько… больше 100! Сейчас всего одна осталась, ее держит старенький-старенький дед на другом конце улицы.
— Село делилось на условные «микрорайоны», настолько большим оно казалось. Стоял магазин, своя ферма была, зерноток, кузня, начальная школа. Но все это давно закрылось. Автолавка пару раз в неделю приезжает, и все.

Зимой в Бездедовичах люди живут всего в 12 домах — Олег с женой выяснили это, когда 8 января пошли колядовать. Летом прибавляются дачники, но в основной массе хаты заброшены и просто разваливаются на глазах.
Изба экс-сибиряка тоже в плачевном состоянии. Оно и неудивительно: ей уже около 100 лет.
— Мой дед поставил ее на своем хуторе в 1920-х годах. Он владел неподалеку большим участком и кусочком леса. Когда началась коллективизация, коммунисты активно зазывали его вступить в колхоз. Он раз отказал, два отказал. На третий они наняли каких-то мужиков из соседней деревни, те разобрали крышу и свезли ее в коммуну. Дед вернулся, бабуля с детьми плачут, не знают, что делать. Пришлось идти в колхоз. Вот на этом месте он заново сложил свою хату. Потом уже пристроил к ней еще пару комнат, а мой отец сделал коридор, веранду.

Выглядит жилище аутентично и даже немного необычно. Олег говорит, такую хату раньше называли круглой из-за того, что ее стены составляют ровный квадрат, — такую редко где встретишь.
— Двор у нас классический, в форме прямоугольника. Из дома к нему ведет отдельный вход — так сказать, хозяйский. Тут много построек: хлев, курятник, пуня, баня… Баней мы до сих пор пользуемся, правда там пол частично провалился, да и печка дымит, надо ее переложить.





Вообще здесь многое требует основательного ремонта: стены настолько прохудились, что нужно постоянно отапливать помещение. Естественно, дровами. Вода в хате из колодца, туалет — на улице, а газ — из баллона. Нормального интернета тоже нет: провайдеры не видят смысла его сюда проводить. Но семью эти неудобства не страшат. Возможно, жильцы даже трансформируют их в свои преимущества — откроют агроусадьбу, в которой сохранится дух белорусской глубинки. Чтобы все по-настоящему было, как у наших предков.
— Можно целый музей организовать. Тут много старинных вещей от деда осталось: плуг, борона, ступа… А от отца — два трактора. Один из них он сам собрал из му#ора, который на свалке нашел.
Но пока это лишь далекие мечты.
Мог стать учителем, спортсменом или комбайнером. Но выбрал путь сапера.

Олег Рудаков уехал из родных Бездедовичей в 17 лет, когда поступил на сапера в Тюменское военное командно-инженерное училище. Захотелось Урал посмотреть, да и вообще вырваться за рамки привычных пейзажей. Хотя этот выбор казался не самым очевидным.
— С пятого класса я каждое лето работал. Последние три класса школы — помощником, а потом и сменщиком комбайнера. Агроном меня хвалил, предлагал остаться в колхозе, даже обещал новый трактор. Тогда это было очень круто, почти так же, как купить магнитофон, — вспоминает собеседник. — Еще я занимался волейболом, со своей командой занял второе место на республиканских соревнованиях. Тренер мне советовал в Брестский физкультурный институт пойти, чтобы я и дальше в спорте развивался, ведь у меня талант. А учитель истории уговаривал выбрать Витебский пединститут: мол, с такими знаниями предмета только туда и дорога.


В борьбе за юное дарование победил человек с опытом — школьный военрук, который прошел через Великую Отечественную. Он не только научил Олега за рекордно короткое время собирать и разбирать автомат Калашникова, но и убедил, что любой уважающий себя советский мужчина обязан защитить страну от демонов капитализма.
Четыре года учебы должны были закончиться распределением в Афганистан. Рудаков уже успел пройти адаптацию в пустынях Узбекистана и выучить базовые выражения на языке пушту, как вдруг СССР начал выводить из горячей точки свои войска. И Олега отправили служить в Иркутск, чему он тогда не очень обрадовался. Там же он встретил распад социалистической империи, автоматически получив российское гражданство… А потом был уволен из армии по состоянию здоровья.

— Врачи вдруг обнаружили, что у меня нет одной почки, хотя родился я с двумя. Куда она исчезла, неизвестно. Предполагаю, что она могла атрофироваться из-за обморожения, которое я получил во время учебы. Я участвовал в соревнованиях и должен был бежать на лыжах 20 км. Накануне стоял в наряде, и во время пересменки все валенки разобрали. На улице 40-градусный мороз, а я в кирзовых ботинках… На забеге я занял третье место, за что мне добавили несколько дней к отпуску. Вернулся в казарму, а у меня нога почернела и покрылась пузырями. Пошел в госпиталь к знакомой медсестре, а она мне: «Ложись на операцию». «Какая еще операция? Мне домой в увольнение ехать», — подумал я и скрыл ото всех эту информацию. Правда, в Беларуси все равно угодил в больницу. Так мой отдых вместо положенных двух недель растянулся на два месяца. Возможно, организм пережил тогда такой сильный стресс, что я и потерял почку.
Так и не дослужив до пенсии, белорус поступил на заочное сразу в два вуза: в одном учился на менеджера, в другом — на историка. После работал в школе, продавал наши МАЗы в Сибири, даже политикой какое-то время занимался. А еще взял и основал Иркутское товарищество белорусской культуры, которое объединило земляков со всей области.
«Дал себе обещание, что буду разговаривать только по-белорусски».

— Я с самого детства любил белорусский язык, постоянно читал наших классиков. В девятом классе у меня даже конфликт на этой почве случился, — рассказывает Олег. — В нашу школу приехала учительница из России, ее поставили преподавать белорусский, которого она не знала. Ну и на одном из уроков мы проходили архаизмы. Я любил самостоятельно находить какие-то примеры, а тут как раз прочитал «На ростанях» Якуба Коласа в старом издании. И там была строчка «Мы з дзядзькам Антосем селi піць гарбату». В советское время «гарбату» заменили на слово «чай». Я поднял руку и сказал: «Чай — гарбата». Учительница сразу покраснела, стала кричать, что я бесстыжий. Оказалось, она подумала, что я ее горбатой назвал, ведь она немного сутулилась. После этого она мне одни двойки ставила, и меня хотели исключить.

В училище любовь к родной литературе никуда не исчезла, а наоборот, только усилилась. Тем более что книги на белорусском, в отличие от написанных на русском, никто в казарме не воровал.
— Когда переехал в Иркутск, начал выписывать «Літаратуру і мастацтва». Одна из статей меня так впечатлила, что я составил на нее отзыв и отправил в газету. Спустя полтора месяца мне ответили с просьбой опубликовать его. Заодно предложили зайти в редакцию, когда я в следующий раз буду в Минске, что я и сделал. Познакомился с автором Борисом Петровичем, который очень удивился тому, как хорошо я разговариваю на родном языке. А я еще в 1991 году дал себе обещание, что в Беларуси буду общаться только по-белорусски, неважно, понимают меня или нет. Из-за этого много интересных случаев со мной происходило. О них меня попросили рассказать на съезде Товарищества белорусского языка, который должен был проходить через две недели…

Съезд оказался масштабнее, чем предполагал Олег: огромный зал, сотни людей, в президиуме — Василий Быков, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин… На сцену мужчина шел еле переставляя ватные ноги. Волновался зря: выступление белоруса из Сибири (так он себя назвал) произвело фурор, а во время перерыва к Рудакову выстроилась целая очередь из желающих поговорить.
— Мне задавали разные вопросы. Например, знаю ли я что-то про Яна Черского, нашего ученого, составившего первую геологическую карту Байкала, — он все озеро на весельной лодке переплыл, каждый бережок обследовал. Спрашивали про переселенцев, уехавших в Сибирь после столыпинской реформы… Многих ответов я не знал, но когда вернулся в Иркутск, стал изучать эти темы. Оказалось, когда-то сюда переместились 300 000 белорусов, и в области сохранилось много наших деревень. Я начал по ним путешествовать, узнавать их историю, собирать фольклор. Параллельно дал объявление в газету: «Сябры-белорусы, давайте объединяться». И рабочий телефон приписал.

Так Олег повстречался с нейрохирургом из Слуцка, артисткой музыкального театра из Солигорска, заводчанином из Гомеля. Вместе с ними организовал первый съезд белорусов Иркутской области — на нем собралось 23 человека. Дело было в 1996 году. В 2022-м ситуация изменилась, в национальной тусовке — тысячи людей. Созданы десятки общественных организаций и творческих коллективов. И началось все это именно с Рудакова — он, пожалуй, самый известный белорус в Сибири. Многие его уважают, хотя есть и те, кто до сих пор считает его польским шпионом или агентом ЦРУ…
— Последние годы я возглавлял клуб «Крывiчы». Мы отправлялись в этнографические экспедиции, проводили традиционные празднования на Купалье, Дожинки, Коляды… Каждый месяц какое-то мероприятие проходило, собирались сотни гостей. У нас и свой большой фестиваль был — «Белорусский кирмаш», на него со всей Сибири коллективы приезжали. Стоило это немалых денег. Однажды я полностью за свой счет его организовал, потратил около 300 000 российских рублей (примерно 10 000 белорусских. — Прим. Onliner). Благо работа в коммерческих компаниях помогла скопить какие-то средства.

В «Крывiчах» были и свой танцевальный кружок, и музыкальный ансамбль, и ремесленная мастерская, где создавались традиционные костюмы и обувь. Вступить в клуб мог любой человек. Национальность была не так важна, а вот интерес к белорусской культуре — очень даже.
— Многие люди, которые присоединялись к нам, изначально считали себя русскими, так как родились в Сибири. Но потом выяснялось, что предки их из Беларуси.

Один из таких примеров — Ольга, жена Олега. Ее прабабушка — из Бешенковичского района. На восток она когда-то поехала за лучшей жизнью.
— Я всегда чувствовала, что это не моя родная земля, но не знала, откуда я конкретно. Родители говорили, что наши предки из какой-то другой части России. Как-то мы с нашим коллективом выступали на «Славянском базаре». И я сразу же поняла, что это мои места. Позже узнала, что это действительно так. Ощущаю себя здесь как дома. Особенно в Полоцке — это мой самый любимый и родной город. Поэтому я как будто и не уезжала в Беларусь, а наоборот, вернулась, — говорит женщина.
Возвращение было делом времени.

Вы спросите: зачем вообще Олег возвратился в свои Бездедовичи после 35 лет разлуки? Тем более что свой филиал Беларуси он уже создал в Сибири.
— Я никогда не сомневался в том, что вернусь на Родину, вопрос был лишь, когда именно.
Без толчка от обстоятельств не обошлось: в прошлом году мама Олега серьезно заболела — у нее отнялись ноги, и самостоятельно жить в деревне она больше не могла. Переезжать куда-то отказывалась. Олег взял в охапку жену, которая совсем не сопротивлялась, и снова переступил порог своей старенькой избы, чтобы на этот раз задержаться в ней подольше. Переезд дался легко еще и потому, что в Сибири особо ничего не держало: ни работа, ни квартира, которую он изначально решил там не приобретать, ни даже белорусская диаспора, которая могла существовать уже без него. Тем более что из-за пандемии многие масштабные мероприятия пришлось отменить, а без них стало как-то тоскливо и неинтересно.

Сейчас основное занятие семьи — уход за бабулей. Ольга ведет онлайн-консультации (она по образованию психолог), а еще шьет игрушки и одежду. Олег помогает все это продавать. Недавно оба получили вид на жительство и зарегистрировались как ремесленники. Надеются, что-то из этого получится, потому что найти хорошую работу поблизости непросто. А деньги лишними не будут: все-таки ремонт сам себя не сделает. Но оптимизм супруги не теряют — главное, что они оба наконец дома.